Алхимический марьяж Элистера Кромптона
Глава 4
Лумис сначала заявил, что он тоже будет участвовать в управлении телом. Но он слегка лукавил. На самом деле ему хотелось принимать участие в интересных событиях. Он жаждал ощутить запахи и вкус незнакомой пищи, испытать чувство утоления жажды, поглазеть на невиданные чудеса, послушать всякие забавные звуки. Но он не хотел осознавать и полностью ощущать все невзгоды этого путешествия.
А нескончаемый путь через болота, казалось, состоял из одних невзгод.
– Смотри в оба, – говорил Кромптон, и Лумис внезапно выпадал из мира грез, где он теперь почти все время пребывал, плавая в бесплотных просторах на волнах воображения, которые окутывали окружающий мир туманной полупрозрачной вуалью, и вдруг – трах! – и Лумис видит усталыми, слезящимися от боли глазами монотонную серо-зеленую растительность и грязные, искусанные насекомыми спины носильщиков.
Но что там визуальные впечатления – это еще куда ни шло! А вот вообразите, как вы, извлеченный из своего кокона, где не было никаких запахов, окунаетесь в атмосферу едкой вони, исходящей от носильщиков, смешанной с испарениями гниющих растений, напоминающими запах подгоревшего мяса, невыносимым хлорно-фиалковым зловонием от испражнений зирни и резким аммиачным запахом пота самого Кромптона.
То, что Кромптон, обладатель самого тонкого в мире обоняния, без жалоб и стонов терпел эту смердящую какофонию запахов, можно объяснить только поразительным стоицизмом этого человека. Лумис же находил ситуацию абсолютно невыносимой. (Запахи чуждых нам мест трудно описывать, но они куда более живо передают суть впечатлений, нежели зрительные образы. Кто не помнит утверждения Кларендона, что Алкмен V пахнет «точно как бизоний пердеж, пропущенный сквозь бочку протухшего козьего сыра»? Или слова Гриньека о Гнуше II: «Запах смеси черной патоки и кольдкрема в животе разлагающегося муравьеда»?)
Но самым страшным в этом путешествии был даже не запах. Что было совсем невыносимо для добродушного, сонливого и ленивого Лумиса, так это необходимость время от времени брать на себя контроль над телом и страдать от экземы, которая разъедала кожу и беспрерывно чесалась, гневно орать, напрягая охрипшее больное горло, на зазевавшихся носильщиков, тревожно ожидать нападения туземцев, а самое главное – постоянно принуждать усталое тело двигаться вперед, подавлять желание наплевать на все и отказаться от этой дурацкой затеи. Лумис никогда не хотел пускаться в это безумное путешествие к цели, которая представлялась ему более чем сомнительной. К тому же, принимая на себя контроль над телом, он почему-то должен был во всем следовать приказаниям Кромптона, а это уж ни в какие ворота не лезло! Кромптон – идиот, он поставил их жизнь на карту, несмотря на энергичные протесты Лумиса, и теперь Лумис должен помогать и содействовать ему в этом? Дудки! Сопротивление Лумиса было вызвано одним из самых глубоких человеческих инстинктов: нежеланием оказаться в дураках. Таков был характер Лумиса, и нельзя судить его за нежелание, а потом и прямой отказ помогать Кромптону во время путешествия через болота. Тут он не мог быть союзником. Он был пленником, и ему перепадало немного света и свободы, только если он соглашался сотрудничать со своим тюремщиком. И честь ему и хвала, что он еще как-то боролся за свою собственную индивидуальность, да и самую жизнь теми ничтожными средствами, которые оставались в его распоряжении.
При всей необычности ситуации Лумис оставался личностью со всеми присущими ей правами. И что бы там ни говорили о неполноценности изолированного сегмента, принадлежавшего изначально другой личности, он прекрасно освоился с внешним миром. Многие люди с так называемой нормальной индивидуальностью считали бы, что им чертовски повезло, обладай они хотя бы десятой долей жизнерадостности Лумиса.
Лумис понимал, что для Кромптона он всего лишь средство добиться успеха, вещь, необходимая для превращения Кромптона в Суперкромптона путем ассимиляции и поглощения братьев по разуму. Сознавать это было далеко не приятно. Лумис вынужден был смириться с этой мыслью, но надеялся, что не превратится в тень Кромптона.
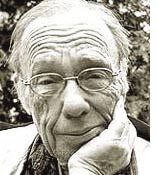 Роберт Шекли (Robert Sheckley) - выдающийся американский писатель-фантаст, общепризнанный мастер сатирического фантастического рассказа. Литературное наследие автора составляет около 20-ти романов и 12-ти сборников рассказов.
Роберт Шекли (Robert Sheckley) - выдающийся американский писатель-фантаст, общепризнанный мастер сатирического фантастического рассказа. Литературное наследие автора составляет около 20-ти романов и 12-ти сборников рассказов.

